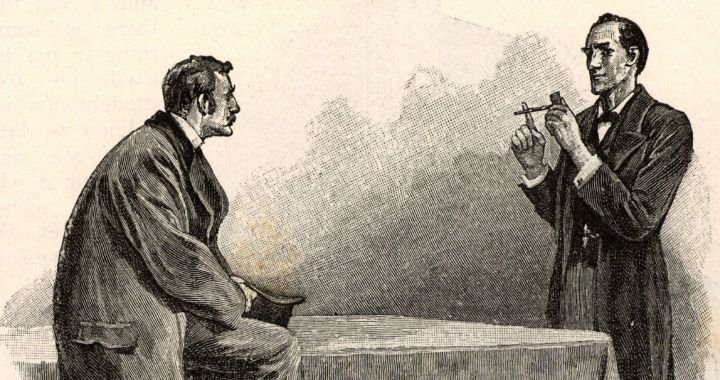
Холмс, Лондон, техническая воспроизводимость жизни и искусства
08/12/2014
Эта история началась на южном берегу Темзы, на Кеннингтон-роуд. В лавке Морза Хэдсона, где торговали всякими произведениями популярного арта, разбили гипсовый бюст Наполеона. Несколько дней спустя на той же улице, что ведёт из района Ламбет в район Брикстон, в частном доме доктора Барникота был похищен и разбит второй такой бюст. Печальной оказалась судьба и третьего бюста – его уничтожили в той же части Лондона, но ещё южнее, на Лауэр-Брикстон-роуд, в хирургическом кабинете Барникота. Затем действие переместилось на север, в район Кенсингтона. Там, на Питт-стрит, из дома журналиста Хорэса Харкера был похищен четвёртый бюст Наполеона (и там же разбит), только на этот раз акт кражи и вандализма сопровождался убийством некоего итальянца. После кровавого происшествия сюжет отправился еще западнее, в тогдашний пригород Лондона Чизик. Там был украден и разбит еще один гипсовый слепок, но теперь сыщикам удалось схватить преступника на месте преступления. Им оказался Беппо, тоже итальянец, отчаянный головорез – а некогда искусный скульптор-ремесленник. Наконец, последний из этой партии бюстов Наполеона (оригинал – знаменитая некогда голова императора, созданная французским скульптором Девином) закончил своё существование в квартире на Бейкер-стрит, 221б. Перед этим бюст (розничная цена 15 шиллингов) был приобретен у мистера Сэндфорда из Рединга (городок на западе от Лондона) за десять фунтов мистером Шерлоком Холмсом, который вместе с доктором Ватсоном снимал квартиру на Бейкер-стрит (улица в центральной части Лондона, идущая от Риджентс-парка на юг). Холмс в присутствии Ватсона и полицейского инспектора Лестрейда разбил голову Наполеона рукоятью своего охотничьего хлыста, после чего извлек из осколков знаменитую черную жемчужину Борджиев, похищенную за год до описываемых событий из спальни князя Колонны в гостинице «Дакар». Как выяснилось, арестованный Беппо, а также (убитый им) другой итальянец Пьетро и сестра последнего Лукреция Венуччи (горничная княгини Колонна) составили преступный сговор, чтобы похитить жемчужину. Беппо, когда в его руках оказался драгоценный камень, преследуемый полицией, вбежал в скульптурную мастерскую немца Хелдера (восточный лондонский район Степни, весьма подозрительный и бедный) и спрятал жемчужину внутри одной из сохнувших наполеоновских голов. После чего его арестовали за поножовщину на улице и Беппо пришлось ждать год в тюрьме, пока он не получил возможность начать охоту за одним из шести бюстов Наполеона, расползшихся по Лондону.

В Музее Лондона – выставка под названием «Sherlock Holmes. The Man Who Never Lived And Will Never Die». Холмс действительно никогда не существовал, касательно его смерти мы поинтересуемся примерно через пару тысяч лет, не раньше, а вот город, где обитал и работал великий сыщик/скрипач/кокаинист, живее всех живых. Собственно, выставка посвящена не самому Холмсу (за некоторым исключением, вроде начальных разделов о Конан Дойле и рождении жанра детектива), а городу – в связи с Шерлоком Холмсом. Районам города, городскому устройству и механизму функционирования, его климату, его обитателями и вещам, которыми они пользовались. Плюс, конечно, множество изобразительных и кинематографических холмсов, но они тоже так или иначе внутри лондонского контекста. Ну и сам факт, что выставку организовал не кто иной, а Музей Лондона. Вот о городе, его людях и его вещах – в том виде, в котором они представлены в текстах шерлокианы и на этой (невероятно популярной) выставке, – мы и поговорим.
Рассказ «Шесть Наполеонов», с краткого изложения которого я начал этот текст, даёт представление об удивительном топографическом разнообразии рассказов и повестей Конан Дойля. Причем, это не «чистая топография», автор точно определяет социальный (а иногда и этнический) фон, на котором происходит действие в Ламбете и Брикстоне, Степни и Чизике. Скажем, в последнем из названных районов – особняки, где проживает уверенный в себе и завтрашнем дне средний класс («добродушный полный мужчина в рубашке и брюках» Джосайа Браун, прекрасное ветхозаветное имя английского буржуа). На Кеннингтон-роуд – смешанное население; тут и известный в округе врач (его приемная совсем недалеко, немного на юг, в Брикстоне), и ремесленники, и мелкие торговцы артом. С Кеннингтон-роуд после разговора с продавцом картин Морзом Хэдсоном Холмс с Ватсоном отправились в мастерскую немца Хелдера, что в Степни. И вот здесь Конан Дойль устами Ватсона выдаёт прекрасный образец социальной урбанистики: «Мы поспешно проехали через фешенебельный Лондон, через Лондон гостиниц, через театральный Лондон, через литературный Лондон, через коммерческий Лондон, через Лондон морской и, наконец, въехали в прибрежный район, застроенный доходными домами. Здесь кишмя кишела беднота, выброшенная сюда со всех концов Европы». Получается, что по Кеннингтон-роуд Холмс с Ватсоном доехали до Вестминстерского моста, пересекли по нему Темзу, затем двинулись по официозной Уайтхолл (что не указано в итинерарии), срезав угол фешенебельного Вестминстера (так в английском оригинале, «проехав по краю», на что не обратили внимание русские переводчики Мария и Николай Чуковские), потом «Лондон гостиниц» в районе Стрэнда и Чаринг-кросского вокзала, потом «театральный Лондон» Ковент-Гардена, потом немного загадочный «литературный Лондон» (думаю, это район Блумсбери вокруг Британского музея), потом «коммерческий Лондон», несомненно Сити, наконец – всё очень просто, начинается Ист-Энд, доки, морские склады, Уайтчепел, в то время знаменитый леденящими кровь историями про Джека Потрошителя, ну и эмигрантские, бедные, пёстрые, жалкие, опасные и разгульные Бетнал-Грин, Степни и так далее. Здесь действительно обитали те, кто приехал за лучшей жизнью в Лондон – евреи, итальянцы, немцы, ирландцы, китайцы, индийцы и многие другие. Напомню, владелец скульптурной мастерской – немец Хелдер, а итальянец Беппо работает у него. Оттуда начали своё путешествие по городу наполеоновы головы – три в лавку на запад, в район Кенсингтона, три – на юг, в лавку на Кеннингтон-роуд. После чего бюсты расползлись ещё дальше, а один из них и вовсе покинул пределы Лондона, оказавшись в Рединге. Жемчужина Борджиа спряталась именно в этой голове-путешественнице.
На самом деле Артур Конан Дойль не очень хорошо знал Лондон. Выходец из Эдинбурга, он прожил в британской столице лишь год с лишним. Выучившись на врача в Эдинбурге и Вене, он открыл офтальмологический кабинет рядом с Британским музеем и поселился неподалеку, на Монтагю-плейс (туда же он поместил молодого Шерлока Холмса, когда тот только приехал в Лондон, смотри рассказ «Обряд дома Месгрейвов»). Однако уже через несколько месяцев Конан Дойль заболел, как ему казалось, от мрачности и скверной гигиены городской жизни, после чего перебрался с семейством в Южный Норвуд, тогда графство Суррей, сейчас – один из пригородов столицы, южнее и западнее Льюишема и севернее Кройдона. Но и там Конан Дойль долго не высидел – и как только ему позволили средства (а они появились с началом коммерческого успеха шерлокианы), переселился в усадьбу Андершоу, что в Хиндхеде, графство Суррей. После смерти первой жены Луизы писатель вместе со второй женой Джин переехал ещё дальше от Лондона, в Суссекс, в поместье Уиндлшем, где и умер 7 июля 1930 года от сердечного приступа. Как мы видим, автор чуть ли не самой лондонской прозы в истории литературы в многократно описанном им городе почти не жил. Он знал его в основном по нечастым наездам по литературным, политическим и светским делам да прежде всего по прессе и полицейским ежегодным отчетам, которые внимательно изучал при сочинении очередного текста про Шерлока Холмса. Так что если мы говорим «Лондон Холмса» или даже «Лондон Артура Конан Дойля», то на самом деле должны иметь в виду «Лондон газет и криминальной хроники» и «Лондон политико-артистический». Если сведения о жизни журналиста Хорэса Харкера с Питт-стрит Конан Дойль мог почерпнуть из собственного опыта общения с прессой и из визитов к коллегам-журналистам и писателям, то уж подробности истэндской жизни – явно из таблоидов и отчетов полиции. Внимательный читатель найдет множество топографических и фактологических оплошностей в шерлокианской топографии Лондона; даже в вышеперечисленном отрывке о путешествии с юга на восток города Холмс и Ватсон делают лишний крюк в Блумсбери – видимо, чтобы полюбоваться на дом два по Аппер Уимпол-стрит, где когда-то находился офтальмологический кабинет доктора Артура Конан Дойля.
У организаторов выставки в Музее Лондона был отличный шанс: используя сверхпопулярного литературного и киногероя, рассказать о том, чему этот музей посвящён – о городе. Что и сделано исключительно умно, даже изыскано. В то время, как большинство посетителей привлекает разнообразная холмсовская параферналия – трубки, кепки, револьверы, парики, накидки и даже пальто, которое окутывало плечи сыщика в недавней бибисишной экранизации, – можно почти без помех полюбоваться такими специальными разделами, как «Туманы Лондона», изучить городские транспортные средства, почитать заголовки лондонских газет того времени, рассмотреть множество превосходных фотографий, изображающих разнообразные районы. Впрочем, не все районы. Есть Стрэнд, полный кэбов и людей, с его вывесками, трактирами и магазинами, с указателями редакций, среди которых – одноимённый журнал, где большинство шерлокианы и было опубликовано. Есть фото Трафальгарской площади, ее окрестностей, Холборн,

Блусбери, но нет, к примеру, Ист-Энда. И это при том, что бывший пролетарский эмигрантский район сейчас страшно моден – не только потому, что здесь теперь живут хипстеры и дизайнеры, но и в результате огромной краеведческой работы нескольких поколений литераторов, журналистов и историков левого направления, которые досконально, улица за улицей изучают Хакни, Бетнал-Грин, Брик-лейн, Степни и прочие районы, жизнь, привычки, язык, занятия их обитателей; в местных независимых книжных лавках всегда есть богатый раздел Local Interest. Но это все XXI век и конец XX-го, а во времена Конан Дойля районы, подобные Ист-Энду, существовали лишь как локус страшных преступлений и страшной же бедности. Так что в каком-то смысле устроители выставки совершенно правы – они всё-таки «Лондон Шерлока Холмса» представляют, а не «подлинный Лондон времен рассказов о Шерлоке Холмсе, как мы его знаем сейчас».
Так что же это за город? Перед нами столица тогдашнего мира, самый большой город на земле, первый мультикультурный и полиэтнический мегаполис Нового времени – даже в большей степени, чем Нью-Йорк и Сан-Франциско. В нём существует очень прогрессивная транспортная система, включающая подземку, надземные пригородные поезда и, конечно, омнибусы и кэбы.

Всё это тщательно отображено на фото и картинах, выставленных в музее; остаётся только догадываться, к примеру, как пахло на улицах и площадях, где было не протолкнуться от лошадей. Холмс был мастак различать запахи, но его уже нет с нами, так что и спросить некого. Современники же этих запахов не замечали, ибо жили в них – точно так же как мы сегодня не замечаем выхлопных газов автомобилей или – если говорить о Лондоне – тяжкой вони уличных столовок и кулинарий. Особняком стоят туманы, конечно.

Alvin Langdon Coburn. St-Pauls from Ludgate Circus. 1909 © Museum of London
Туманы замечали все – даже жители города, хотя последние в меньшей степени. Рисовать знаменитые лондонские туманы приезжали французские импрессионисты (на выставке висит даже одна картина Клода Моне) и Уистлер (здесь немало его превосходных рисунков), не говоря уже о более раннем периоде, когда атмосферные явления в этом городе живо интересовали Тёрнера. В нескольких рассказах Холмс, выезжая с Ватсоном на дело в сельскую местность, говорит о необходимости «прочистить горло от лондонских туманов». О туманах говорили почти все, кто посвящал свои тексты этому городу. В каком-то смысле туманы столицы метафорически окутали всю страну – так появилось выражение «туманный Альбион». Сейчас туманы в Лондоне редки – здесь почти всегда дует ветер, погода меняется быстро, воздух довольно чист и безусловно свеж. Знаменитые туманы были порождением того же исторического периода, что и котелки с цилиндрами у джентльменов, турнюры у леди, основательные большие револьверы «Кольт», королева Виктория, премьер-министр Гладстон, инцидент у Фашоды, появление первых броненосцев и массового фастфуда. Город под завязку был набит разнообразной индустрией (хотя и в меньших масштабах, нежели Манчестер или Ливерпуль), первые линии лондонского метро обслуживали паровозы, они же разъезжали по пригородам, прибывая на многочисленные вокзалы города, дома отапливали углём и дровами: бесконечные трубы чадили, создавая ощущение полного Армагеддона. Это был не туман, это был смог, говоря современным языком. Врач Артур Конан Дойль понимал, что дышать таким воздухом небезопасно; чтобы навсегда прочистить горло от лондонских туманов, он и переехал за город. Увы, даже поздно – его первая жена Луиза умерла от туберкулеза в возрасте 49 лет.

John Anderson. Westminster Bridge Houses of Parliament seen from the River. 1872 © Museum of London
Но был и другой Лондон. Мало кто обращает внимание на восхитительную фразу из рассказа «Голубой карбункул». Там Холмс и Ватсон идут по следу вора, похитившего бриллиант в отеле «Космополитен» у графини Моркар и засунувшего его в зоб обреченного на рождественскую смерть гуся. После первой части расследования, которое прошло на Бейкер-стрит, 221б, сыщики выходят на улицу. Холодно, благо третий день рождественских праздников: «Был морозный вечер, и нам пришлось надеть пальто и обмотать шею шарфом. Звёзды холодно сияли на безоблачно ясном небе, и пар от дыхания прохожих был похож на дымки от множества пистолетных выстрелов». Это удивительное описание может принадлежать лишь перу человека, который повидал немало пистолетных выстрелов на своем веку. Артур Конан Дойль был из таких – он лицезрел англо-бурскую войну, а полторы декады спустя, в возрасте 55 лет, даже пытался записаться добровольцем на Первую мировую. Слава Богу, на фронт его не взяли, а то мы никогда не прочли бы, к примеру, одного из самых странных рассказов холмсианы «Камень Мазарини», где повествование ведётся от третьего лица, где, как и в классическом «Пустом доме», Холмс использует в качестве приманки собственный манекен, где речь идет – да-да, опять! – о похищенном бриллианте, где сыщик оказывается более ловким преступником, чем жулики: мало того, что он перехитрил их, используя современные технологии (граммофон), он еще и тайком засовывает «камень Мазарини» в карман лорда Кантлмира, у которого бриллиант и похитили. Полный набор; здесь, как в «Пустом доме», даже присутствует бесшумное духовое ружье, специально заказанное для убийства Холмса. Вся эта веселая белиберда сочинена в 1921 году шестидесятидвухлетним писателем после чудовищной войны, в которой Конан Дойль потерял сына. Про «Камень Мазарини» на выставке в Музее Лондона нет ни слова.
И ещё на выставке почти ничего нет про бриллианты. Конан Дойль понимал в них очень мало – зато, обладая незаурядным практическим умом, очень хорошо разбирался в обыденной лондонской экономике. Её он знал гораздо лучше лондонской топографии. Сеть распространения поп-изображений Наполеона, которую он набросил на Лондон, – только один из примеров. Конан Дойль отлично понимал, как работает мелкий ломбард за углом от большого банка на Флит-стрит (хотя и топографически поместил его в совершенно невозможном месте), он имел все основания отправить Айзу Уитни курить опиум в Уайтчепел, Холмса с Ватсоном обедать в итальянский ресторан в Сохо, а трактирщика Виндигета из заведения «Альфа», что близ Британского музея, послать за гусями на ковент-гарденский рынок. Этот заштатный доктор, провинциал, в молодости похожий на Шаляпина, говоривший с сильным шотландским акцентом (одно из самых больших наслаждений выставки в Музее Лондона – документальные кадры 1920-х, где писатель рассказывает о жанре детектива), прекрасно понимал мещанскую, буржуазную жизнь буржуазной эпохи. И – не вопреки, а благодаря этому – он всё понимал про искусство. Будучи современником Оскара Уайльда, с которым они печатались в одних изданиях, Конан Дойль уважал «искусство для искусства», более того, он его производил – в каком-то смысле нет ничего более логически отвлеченного и философски-возвышенного, чем шерлокиана или комические исторические романы про бригадира Жерара. Конан Дойль сочинял их чисто для искусства – ну и для денег, одно другому ведь не мешает. Но в то же самое время он знал, что искусство состоит из жизни – не отражает жизнь, как думают дураки и невежды, а состоит из неё, ведь слова, звуки, образы, из которых искусство делают, порождены жизнью, они и есть жизнь, они перемешаны в ней с вещами, домами, идеями, ландшафтами и людьми. Выставка в Музее Лондона в конце концов об этом – о городе, который теперь состоит из искусства (в частности, из искусства нелондонца Конан Дойля), и об искусстве, которое отчасти состоит теперь из города Лондона (в частности, описанного нелондонцем Конан Дойлем).
P.S. Вот один пример, как это работает. В «Шести Наполеонах» всё дело в сети распространения грошовых гипсовых бюстов императора. Автор описывает сразу несколько социальных уровней – бюсты покупают врач, журналист, просто буржуа и некий человек из Рединга, уверяющий, что небогат. Бюсты делают немец и итальянцы, продают англичане. Жемчужину Борджиа крадёт горничная с высоким именем Лукреция. В каком-то смысле перед нами иллюстрация в известному эссе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». С одной стороны, Беньямин исключает серийное производство скульптур популярных героев из собственно буржуазной эпохи, мол, этим занимались еще древние греки. С другой, он пишет: «В самой совершенной репродукции отсутствует один момент: здесь и сейчас произведения искусства – его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится». И дальше: «Репродукционная техника, так можно было бы выразить это в общем виде, выводит репродуцированный предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление массовым». Здесь древние греки уже ни при чем – бюсты Наполеона изготовляют в мастерской Хелдера в массовом порядке, хотя и вручную. Техника здесь неважна, как ни странно, так что Беньямин пусть пока посидит в сторонке, почитает Пруста и пожует марципаны. Тем не менее перед нами типичный массовый продукт, предназначенный для буржуазного массового общества. Важна не техника, важен социум. Бытие гипсовых наполеоновских голов не то чтобы не уникальное, оно вообще НЕ ВАЖНО, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА КРОМЕ ИТОГОВОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ. Получается, что Хелдер, не зная того, делает наполеонов, чтобы их разбили. Сами бюсты мало кого интересуют, даже тех, кто их купил по 15 шиллингов штука. Они важны лишь как составная часть логистики – бизнес-логистики и (как выясняется в ходе рассказа) преступной логистики. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости нужно, чтобы хранить внутри себя жемчужину – этот символ другой, предыдущей эпохи, где богатство было сословным, наследным, где его могли украсть, раздобыть, положить в клад, где оно не имело никакого экономического смысла. В сущности, жемчужина Борджиа – символ старого «бесполезного» искусства внутри нового, репродуцированного, массового.

Ещё смешнее дело обстоит в «Голубом карбункуле» («Шесть наполеонов» написаны в самом начале XX века, опубликован рассказ в 1904-м, «Голубой карбункул» – в 1892-м). Там преступник тоже прячет драгоценный камень в голову – только не мертвого Наполеона, а (пока ещё) живого гуся. При этом дело происходит в Лондоне – и даже гусей выращивают в нём, в том же самом Брикстоне, а продают в Ковент-Гардене. Считать ли гуся, выращенного на продажу миссис Окшотт в её доме на Брикстон-роуд, 113, произведением искусства в эпоху его технической воспроизводимости? Или это ещё атавизм старой аграрной, штучной экономики? Конан Дойль решительно с этим не согласился бы. Более того, будто специально в пику неизвестному ему несчастному рижскому еврею-теоретику и марксисту (который родится в год написания и публикации «Голубого карбункула») этот шотландский доктор вставляет в сюжет комическую сцену пари. Выпив пива в пабе «Альфа», Холмс ставит соверен на то, что интересующий его гусь выращен в деревне (читай, в условиях до технической воспроизводимости), а его визави гусепродавец с ковент-гарденского рынка Брэкинридж («человек с лошадиным лицом и холёными бакенбардами») доказывает сыщику, что ан нет, гуси-то городские! из Брикстона (читай, продукт эпохи технической воспроизводимости)! В результате человек с лошадиным лицом выигрывает соверен, Холмс находит вора, княгиня Моркар получает назад свой карбункул, а паяльщик Джон Хорнер, 26 лет, прежде судимый, получает назад свободу. Все довольны – даже мошенник Райдер, которого великодушный Холмс отпускает на все четыре стороны. Но особенно доволен рассыльный Петерсен, ему светит тысяча фунтов награды за найденный камень. Наверняка Петерсен бросит службу, купит домик в деревне и славно заживет там, подальше от ужасного мегаполиса. Дармового гуся он уже получил и съел.
Получается, что в «Шести Наполеонах» Конан Дойль отправил внимательному читателю исключительно тонкий месседж эстетического свойства – для эпохи технической воспроизводимости гипсовые головы французского императора в количестве шести штук ничем не отличаются от выкормленных в Брикстоне рождественских гусей. Всё дело в старомодных драгоценностях и опереточных княгинях и графинях, у которых эти камешки воруют. То есть в старом-добром штучном искусстве.
Таков и главный вывод, который можно сделать из выставки «Sherlock Holmes. The Man Who Never Lived And Will Never Die».
P.P.S. И вот что ещё интересно. Все эти старые фабрично произведённые вещи, которые можно увидеть за стеклом витрин в Музее Лондона, выглядят сегодня как штучные жемчужины Борджиа и голубые карбункулы. Последние сто с лишним лет бурной технической воспроизводимости превратили предметы старой технической воспроизводимости в памятники высокого ремесла. Что внушает и надежду, и ужас разом.