
Hunger for Life 2014
Разговор с коллекционером искусства Ингвилд Гётц в Мюнхене
Маргарита Зиеда
21/03/2014
Собрание искусства Ингвилд Гётц (Ingvild Goetz) Wall Street Journal включил в список десяти важнейших коллекций в мире. На шумном и пёстром рынке искусства она ходит по своим собственным тропам, неподвластным влиянию мейнстрима и притяжению наиболее «шумных» на данный момент имён. Состоящая теперь из пяти тысяч художественных работ коллекция Sammlung Goetz развивалась преимущественно благодаря контактам с молодыми художниками, многие из которых находились в самом начале пути. А половина работ из её собрания создана женщинами-художницами. Ингвилд Гётц с удовольствием помещает в круг своего внимания ещё не замеченные художественные тенденции, не ставшие трендовыми. К тому же с помощью находящегося в её распоряжении капитала ей по силам переструктурировать карту искусства, выдвигая на передний план тех художников, которых другие не выставляют.
Осенью 2013 года значительную часть Sammlung Goetz – коллекцию медиаискусства, с которой могут сравниться только парижский Le CentrePompidou, лондонский Tate Modern и нью-Йоркская MoMA, – Ингвилд Гётц подарила своему городу Мюнхену. Подарком стал также построенный ею музей, который в начале девяностых годов спроектировал в то время ещё малоизвестный дуэт швейцарских архитекторов – Жака Херцога и Пьера де Мейрона (Jacques Herzog & Pierre de Meuron). Свой первый выставочный зал они обустроили именно для SammlungGoetz. Восемью годами позже распахнул двери спроектированный этими архитекторами Tate Modern в Лондоне. Помимо выставок в SammlungGoetz доступна и громадная библиотека книг по искусству без какой-либо входной платы, надо только записаться заранее по телефону и приехать на Oberföhringer Straße 103. Мюнхенские школьники и студенты частенько пишут там свои учебные работы. Сейчас в музее можно посмотреть выставку Happy Birthday, посвящённую двадцатилетию существования Sammlung Goetz!

Внешний вид выставочного зала Sammlung Goetz в Мюнхене. Архитекторы © Herzog & de Meuron, Базель. Фото: Ник Тенвиггенхорн
Мюнхен не является городом, где родилась Ингвилд Гётц, она выбрала его для проживания сама. Она родилась во время войны в Кульме в Западной Пруссии, и при приближении советских войск стала беженкой вместе со своим братом и родителями. В Гамбурге Ингвилд пережила и насмешки школьных товарищей из-за польского акцента, и бедность. Сегодня одним из направлений её филантропии является финансовая помощь по приёму и размещению беженцев в Европе. Это – её человеческая поддержка тем, кто явился сюда с пустыми руками и кого здесь никто не хочет видеть.
Выбиться из бедности в пятёрку богатейших людей в Германии ей помогла чрезвычайно успешная бизнес-идея отца, Вернера Отто, – пересылка обуви по почте, которая переросла в каталог-империю Otto с представительствами в 20 странах мира. Вернер Отто относится к наиболее значительным меценатам Германии, он поддерживал развитие медицины и искусство, спонсировал создание и лечебных учреждений, и концертного зала Konzerthaus Berlin. Как и её отец, Ингвилд Гётц наряду с меценатством в искусстве помогала больным булимией и исследованиям, связанным с этой болезнью.

Хранилище фоторабот Sammlung Goetz. 2012. Фото: Николас Винтер
Ингвилд когда-то хотела стать художницей, но решила, что её таланту не хватает масштаба. Искусство, которое она теперь коллекционирует, именно такое, под которым бы и она сама охотно «подписалась». На нижнем этаже музея Гётц живёт в стекле созданный из белых букв и цифр её портрет работы Феликса Гонзалес-Торреса. Он заканчивается словами Hunger for Life и годом, который в данный момент на дворе. Каждый год Ингвилд Гётц своей рукой вписывает новые цифры. Мы разговаривали в декабре, и в Hunger for Life был ещё символ «2013». Сейчас там стоит «2014».
Когда-то для своей учёбы вы выбрали политологию, а не историю искусства. Как это повлияло на восприятие человека, который интересуется художественным творчеством?
Политологией я занималась совсем короткое время. И делала это только потому, что мой друг тогда изучал то же самое. Сама я мечтала изучать искусство, но это не вышло, потому что родители хотели, чтобы я приобрела более солидную профессию. И могу сказать совершенно честно, что политологию я изучала ровно столько, сколько мы дружили с этим парнем.
Однако сама я была очень политически ангажированным человеком. Я – дитя шестидесятых годов, а это было время, когда люди выходили на улицы, чтобы что-то поменять вокруг. Пять, шесть сотен студентов. Это были громадные демонстрации, и в них принимали участие и старые, и молодые. Мы выходили на демонстрации против издательства Шпрингера (Springer), против войны во Вьетнаме. Тогдашний Мюнхенский университет был очень консервативным, мы выступали за реформы в образовании. За реформы в судебном деле. Мы выходили на демонстрацию каждый второй день. И политология выглядела чем-то очень скучным по сравнению с реальностью – с тем, что происходило на улицах. Вот этого мне сегодня не хватает в молодом поколении. Они вообще больше не выходят на улицы, хотя для этого так много причин. Раньше против несправедливости всегда выступало общественное движение – будь это несправедливость в системе или несправедливая война. Все выходили на улицы. И те, кто были за что-то, и те, кто были против.
Вот и ваша первая галерея Art in Progress в Цюрихе в 1972 году выступила с политических позиций. И вы сразу же потеряли разрешение на работу. Что же произошло?
Художники во всей Европе в то время были политически активными. Они проводили хеппенинги, перформансы, содержание которых было направлено на изменения в обществе. И свою галерею в Швейцарии я решила открыть политическим хеппенингом. В то время шла война в Анголе, и во всём мире была введена блокада против поставок оружия правительству этой страны, которое обращало его против неспособных к сопротивлению местных жителей. Но одна швейцарская фирма продолжала нелегально поставлять его ангольским властям.
Вольф Фостелл (Wolf Vostell) предложил на открытии галереи устроить политический хеппенинг – создать на одной из площадей Цюриха скульптуру. Я получила разрешение на это. Мы выложили газеты соответствующего дня в виде объекта на площадке в шесть квадратных метров ровно на такую высоту, какую акции этой фирмы пропорционально достигли в тот день. Тогда появилась полиция и спросила, что всё это значит. Мы им разъяснили. И сказали, что это – политический хеппенинг. На что они ответили: «О, господи! Здесь, в Швейцарии, такие политические хеппенинги невозможны».

Выставочный зал Sammlung Goetz в Мюнхене. Архитекторы © Herzog & de Meuron, Базель. Слева: лестница (фото: Франц Виммер) и внешний вид (фото: Хисао Сузуки)
Наша идея была на один день оставить эти газеты в покое, а потом на грузовой машине доставить в Санкт-Мориц, где на них набросать снег. Общество в общем только смотрит, не делая ничего, и всё сверху покрывает снег. Оружие продолжает доставляться. Это был политический концепт хеппенинга.
Полиция нам это не разрешила. Мы собрали газеты и перевезли в Германию, где разместили их на участке земли, который принадлежал родителям Ульрики Оттингер (Ulrike Ottinger). Так этот хеппенинг переехал из Цюриха в Констанц, но там, конечно же, у него уже не было такой прямой силы воздействия.
В то время в кинотеатрах перед демонстрацией фильма ещё показывали еженедельный новостной журнал (Wochenschau). В Цюрихе он был смонтирован с киноматериалом о войне в Анголе и кадрами того, как изготавливают оружие. Это придало всему дополнительную силу. У меня в то время ещё не было постоянного разрешения на работу в Швейцарии, а после всей этой истории это вообще было исключено.
И вы отправились обратно в Германию и открыли галерею там?
Нет, я оставалась ещё год в Цюрихе и продолжала работать над созданием галереи. Я пряталась в подсобных помещениях, ведь у меня не было разрешения ни на работу, ни на пребывание. Там были ещё две швейцарские девушки, которые могли работать в галерее. Она была местом постоянных встреч студентов и художников. Художники были в ужасе от того, что в Швейцарии вообще нельзя даже устроить большую демонстрацию. И тогда однажды я отправилась обратно в Германию.
Через год, перебравшись в Мюнхен, вы продолжали создавать галерею Art in Progress. Была ли заложена в это название определённая программа?
Да. В Мюнхене я показала художников, которых увидела в Америке и которых встретила благодаря поддержке Харальда Зееманна (Harald Szeemann): Христо (Christo), который затем «упаковал» галерею в Мюнхене, Брайса Мардена (Brice Marden). Были также художники с Западного берега, которые работали с новым художественным материалом – полиэфирной смолой. Это были чрезвычайно красивые работы, при падении на них света возникали совершенно особые цвета. В то время это искусство Западного берега формировало действительно абсолютно новое декоративное направление. Тогда же я покупала Сола Ле Витта и молодых художников, которые позже стали очень знаменитыми. Или японского художника Сюсаку Аракава (Shusaku Arakawa), в работах которого соединялись философия и архитектура.
И одновременно я серьёзно концентрировалась на европейских художниках. И прежде всего на arte povera. Меня захватил присущий итальянцам такой чрезвычайно человечный способ, каким они транслировали социально-критическую или политическую информацию. Мне это очень нравилось! Меня больше совершенно не привлекало никакое политическое искусство с вытянутым указательным пальцем, мне хотелось искусства, которое говорит о том же самом более метафорическим способом. Одновременно позволяя задуматься и о социально-критических темах.
Вы упомянули имя легендарного швейцарского куратора искусства Харальда Зееманна, который проводил documenta 5 и три раза курировал большую выставку Венецианской биеннале, а также в конце шестидесятых годов выдумал новый способ презентации искусства, который развивается на основе диалога концепции куратора и включённых в экспозицию работ. Как Харальд Зееманн повлиял на ваш подход к художественным работам? Каковы были основные черты его подхода к искусству?
В Нью-Йорк я отправилась с довольно наивной установкой. Я составила для себя список имён художников, которые постоянно встречала в журналах по искусству, – Энди Уорхол, Христо... И думала – возьму городскую телефонную книгу и позвоню. Так совпало, что в самолёте оказался ещё Харальд Зееманн, который отправлялся искать художников для documenta.
Он дал мне адреса художников из моего списка. И не только их, но также тех художников, которые очень интересовали его самого. И вот так я отправилась к Ричарду Таттлу (Richard Tuttle). Пришла в его студию, а там на стенах висели такие плоские проводки. Тут один, там другой, и прожектор. И тени, которые отбрасывали эти проводки, выглядели как чёрточки авторучкой. Я была в таком ужасе! Думаю – что это тут такое? Это считается искусством? И что я теперь скажу? Я же не могу просто признаться, что мне это кажется ужасным. Мне это вообще было непонятно. Я была тогда на уровне образного течения искусства Германии шестидесятых годов, а то, что я встретила в Нью-Йорке, оказалось чем-то совершенно другим. Следующим, кого я посетила, был Роберт Римен (Robert Rymen). В его мастерской висели только белые картины.

Вид на экспозицию. Выставка Arte Povera. Works and Documents from the Goetz Collection 1985 Until Today, 2001. Фото: Ник Тенвиггенхорн
Когда я встретила Зееманна, я сказала ему: «Ну, я не знаю... Я совершенно не могу со всем этим что-либо предпринять». Он на меня так посмотрел и сказал: «Знаешь, что с тобой? Тебе надо учиться смотреть. Тебе надо просто учиться смотреть, чтобы ты попала внутрь работы. И с тем, что тебе неизвестно, что для тебя – величайший вызов, с этим тебе надо включиться в дискуссию. Если ты всё время говоришь “это мне нравится” и руководствуешься только этим, ты придёшь к ненастоящему искусству». И тогда он мне очень азартно разъяснил, что на искусство надо уметь смотреть. И как надо работать со своим замешательством.
Я по-прежнему ещё была в Нью-Йорке и поэтому использовала возможность посмотреть на искусство по-другому. Зееманн послал меня в несколько мастерских, где у меня всё ещё возникали проблемы с восприятием. Так я зашла и к Дэну Грэхему. Крошечная, малюсенькая мастерская, художник сидел на кровати, почти ничего не было видно, потому что помещение было действительно миниатюрным. Всем надо было сидеть на кровати. И тогда можно было немного посмотреть на эскизы. Я действительно очень старалась, я говорила себе – я хочу сейчас это понять и хочу туда нырнуть. И это было великолепно – попробовать приблизиться к искусству с совершенно другими мыслями. Позволить всему быть таким, какое оно есть, и принять это как высказывание художника. И затем размышлять над этим и только тогда решать, хорошо это или плохо в моём видении.
Да, но пытаться только с помощью твёрдой решимости понять искусство, особенно если это что-то совершенно другое и новое, наверное, всё-таки недостаточно, чтобы действительно его понять. Необходимо что-то ещё.
Я начала задавать художникам очень много вопросов. Раньше я этого не делала. Мне в общем-то ничего реально не приходило на ум – что надо было бы спросить, особенно если я встречалась со сложным искусством. Я скорее мудрила над тем, как можно было бы по возможности вежливее и быстрее смотать удочки. Но вдруг я начала раздумывать над ассоциациями, рождавшимися у меня, когда я рассматривала эти работы. Я о них рассказала художникам и так позволила втянуть себя в дискуссию. Я задавала вопросы и затем опять в полученные от них ответы встраивала своё видение и ощущения. Я реально пробиралась ощупью, чтобы подойти поближе. Тогда самыми большими моими помощниками были сами художники. Совершенно ясно, что всё это невозможно без какого-либо пояснения. И, конечно, каждый раз, когда я снова встречаю Харальда Зееманна, мы говорим об искусстве. В Нью-Йорке я провела четыре недели, и каждый день я посещала 4–5 художников. И там я много чему научилась.
Да, сегодня даже критики искусства говорят, что современное искусство в очень многих случаях невозможно понять без комментария. И вот тогда возникает этот вопрос – как зрителю найти дорогу в искусство? Ваш путь, похоже, шёл через дискуссии. А как, например, насчёт книг и текстов критиков?
Информация, конечно, должна быть – или из книжек, или от самого художника. Но должно быть и свободное пространство, в которое человек сам себя помещает в разговоре с художественной работой. Ты конфронтируешь сам с собой с помощью того, что ты видишь. Эта личная конфронтация чрезвычайно важна. Не только с художественной работой, но и с самим собой.
Мне всегда помогали разговоры, в них я лучше всего могла понять работы. Меньше – с помощью книг. Зачастую я потом даже не читаю, что же написано об этом художнике. Иногда почитаю, а иногда мне даже не хочется знать, что именно о нём пишут. Потому что есть так много критиков, которые видят в работах самые разные вещи, и частенько совсем не те, которые сам автор вложил в свои работы. Поэтому для меня самое важное – личная встреча с художником.
Ваша коллекция знаменита тем, что она развивалась главным образом благодаря работам молодых художников, в момент покупки работ ещё неизвестных широкой общественности. Многие из них позднее стали очень известны. А как вы отличаете хорошее искусство от плохого?
У меня есть почти пятидесятилетний опыт наблюдений. И тогда случается так, что галерист в восторге, а я помню, что это уже было тридцать лет назад.
Искусство должно прежде всего бросить мне вызов. И тогда, я даже не могу толком это объяснить, после дискуссии с работой я решаю, что я считаю хорошим, а что нет. Это очень трудно объяснить. Я просто не могу это объяснить.
Хорошо, я говорю: «Это слишком беспомощно». Или – «Идея хороша, а исполнение – хромает». Или ещё – «Идея нависает и сзади, и спереди, она так очевидна, что мне это всё не кажется интересным». Но последнее решение происходит на уровне чувств и ощущений. В любом случае это – решение тела. Не головы.
Коллекционировать искусство вы начали ещё ребёнком – с почтовых открыток, на которых были работы маслом старых мастеров. Однако в коллекции Sammlung Goetz находится только новое искусство. Почему так?
Когда я ещё была ребёнком, мне казалось, что старое искусство – единственное, которое интересно. Не модерн. И вот в школе я встретила одного профессора, который преподавал и в Академии художеств. Он был уверен, что у меня дар в искусстве, и познакомил меня с новым искусством. Я ходила в Академию, смотрела работы, и вот настал момент, когда всё это стало меня действительно восхищать.
Мне в жизни всегда везло на встречи с людьми, которые уводили меня прочь от неправильных путей. Когда в начале семидесятых годов в Констанце я начала создавать издательство графики, в Германии было модно более декоративистское искусство. Я в то время часто забегала в тамошний университет, где был такой чудесный профессор Смуда. Он мне по-прежнему время от времени пишет, просит каталоги. И каждый раз он меня спрашивал – как ты можешь такими вещами заниматься? Как ты себе позволяешь делать такие-то вещи? Ты теперь поедешь в Цюрих и будешь каждую неделю отправляться смотреть одну выставку. И он меня так далеко завёл, что я начала по-иному видеть современное искусство. Так это началось. Итак, я начала создавать свой маленький ящичек с художниками, которые меня интересовали. Собрала все изображения их работ. И таким путём я дошла до современного искусства. Да, в действительности вся эта дорога состояла из встреч с людьми.
Самой первой вашей коллекцией были картинки на пачках маргарина и сигарет, которые вы получали от людей на улице. Это были чужие люди, с которыми надо было заговорить. Может быть, в вашем случае речь идёт прежде всего о коммуникации?
Так и было. Я шла вслед за курящими, и когда я видела, что кто-то вынимает пачку сигарет, я спрашивала, могу ли я оторвать картинку. Мы с братом очень много времени проводили на улицах – за поиском картинок, обменом и уговорами чужих людей. Мне тогда было пять или шесть лет. Мама нас всегда искала, когда мы отправлялись в эти свои коллекционерские походы. Меня – особенно, потому что я была просто помешана на этом коллекционировании.
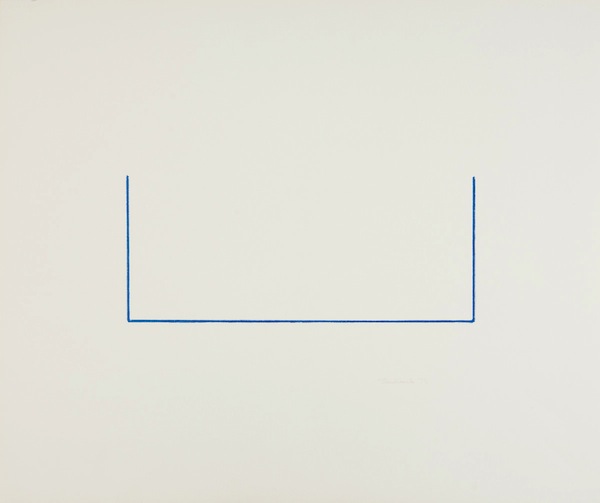
Фред Сэндбэк. 1975. Фото: Вильфрид Петци. С разрешения Sammlung Goetz
В то время, наверное, речь прежде всего шла о том, чтобы заполучить картинки, а более поздние разговоры с художниками – они были так же важны, как и их работы?
Да, так и есть. Но чтобы я вообще подошла к художнику, его работа меня должна взволновать. Если работа мне не нравится, я художника не ищу. Работа должна зацепить – положительно, отрицательно, но зацепить.
Как эти разговоры влияют на ваш путь коллекционирования? Когда вы говорите – нет?
Раз я увидела одну чудесную серию рисунков. Она была очень своеобразной. «Да, это – что-то!» – говорила я себе. И вот я отправилась в мастерскую художника. Сперва он совершенно ничего не мог сказать об этой серии. Чувствовал себя ужасно неудобно. И потом произнёс что-то вроде: «Да, я вот это – так. А вот то вот так». И в этот момент я начала думать: «У него нет никакой концепции, это было нечаянное попадание в цель». И у меня появилось ощущение неуверенности. Обычно я посещаю совсем молодых художников, и тогда нет возможности посмотреть сразу много работ, чтобы определиться. Я не приобрела те работы, хотя, сложись разговор иначе, совершенно определённо купила бы. Во время разговора у меня возникли подозрения, что эта серия – просто счастливый случай. И со временем это подтвердилось, этот художник больше не создал особо интересных работ.
Другой пример – с одной уже очень знаменитой художницей в именитой галерее. Выставка показалась мне интересной, и я сказала, что хотела бы поговорить с её автором. Художница показала мне, что она ещё хотела бы сделать. И это было так патетично, так ужасно. Хотя выставочные работы были во всяком случае сдержанными. И тогда мне стало ясно – надо держать дистанцию. Я не купила те работы. А это была художница, которая в тот момент считалась очень знаменитой и перспективной. Позднее галеристка мне подтвердила, что её известность не затянулась особо надолго.
Но бывает и по-другому. Я в таком восхищении от художественной работы, что просто беру и покупаю. И после этого художник больше ничего интересного не создаёт. В моей коллекции не только одни попадания в десятку. Есть и художники, которые затем вообще ничего не создали или же на следующих этапах никуда не сдвинулись. Конечно, бывает и так, что ты ставишь не на ту лошадь. Но эта «не та лошадь» – именно для меня. Я под этим подразумеваю не то, что художник коммерчески неправилен или неправильно выставлен, а то, что его искусство я так глубоко прочувствовала...

Феликс Гонзалес-Торрес, Untitled (National Front), 1992. Фото: Филипп Шёнборн, © Felix Gonzalez-Torres, VG Bild-Kunst, Bonn

Рони Хорн, Сюита № 2. 1991–1994. Фото: Раймунд Кох. С разрешения Sammlung Goetz
Ах, этот иногда фатальный комментарий художника... Но ведь есть же авторы, которые не умеют с толком, интеллектуально разъяснить свою работу и всё-таки создают сильные произведения.
Это вообще неважно. Но у художника должно быть отношение к своему искусству. А есть такие, у которых нет никакого отношения к искусству, которое они создают. Им, может быть, лишь из-за удачного стечения обстоятельств что-то удалось. У меня был разговор с одним испанским автором, у которого вообще не было отношения к тому, что он делает. И тогда я его спросила: «А почему вы этим занимаетесь?» И он мне ответил: «Мне хочется стать знаменитым. Скажите, что мне надо сделать, чтобы у меня появились картины, которые стали бы известны?» И на этом предложении всё было кончено. Именно такие вещи можно «раскусить» только в разговорах.
Важна ли для вас работа художника в течение длительного срока, и следите ли вы за ней? Или время создаёт также и дружбу между вами?
Да, с некоторыми так и произошло. С Рони Хорн у меня очень тесная дружба, тесный союз. То же самое было с Феликсом Гонзалес-Торресом (Felix Gonzalez-Torres), который слишком рано умер.
Живший в Нью-Йорке кубинский художник Феликс Гонзалес-Торрес в 1993 году прилетел к вам в Мюнхен и выполнил ваш портрет на стекле в новом музее по всему периметру помещения. Это – единственная работа, которую нельзя переместить и которую можно увидеть всегда. Как возник этот портрет?
Мы хорошо знали друг друга, у нас были тесные отношения. И Феликс мне сказал – теперь возьми и напиши на листочке важнейшие события своей жизни.
Он выбрал некоторые из них. Сам он ещё отобрал события, которые в то время в мире считались важными. Начиная с совершенно дурацких вещей, например, куклы Барби, но наравне с ней там была и мировая война. К моим событиям он присоединил свои, выбранные им. Это – смешение моего портрета с общим портретом всего мира. И такие «банановые» вещи, как кукла Барби, позволяют зрителю подумать – а она ли это, или это – Феликс? И совсем непросто различить, что тут выбрала я, а что из мировых событий выбрал Феликс. И то же самое с соединениями слов, которые есть на этом портрете.

Феликс Гонзалес-Торрес. Без названия. Портрет Ингвилд Гётц. 1993. С разрешения Sammlung Goetz
Вы, конечно же, сейчас не разберёте всё это опять на составные части и не расскажете тайну. Но всё-таки, какое из этих событий действительно важно, чтобы понять вас?
Loved Teddy Bear. Во время войны нам пришлось очень быстро покинуть наш дом, который находится теперь в Польше. Мой отец сказал – оставьте всё, нам надо бежать, русские идут! Брат взял своего медвежонка, а я взяла только маленькую куколку. И то, что я не взяла с собой своего медвежонка, мучило меня на всех этих путях-дорогах бегства. Это – переживание, которое глубоко врезалось в меня.
Но на портрете есть и «Amazona 1959». В возрасте семнадцати-восемнадцати лет мы вместе с подругой отправились в путешествие-авантюру. На Новую Гвинею, в отдалённейшие места планеты. Отцу я сказала, что мы едем в Бразилию, чтобы посмотреть большие города. Однако нашей идеей было отправиться в джунгли. Мы приехали в Манаус, чтобы начать оттуда свой путь. Там были гидросамолёты, которые перевозили в посёлки местных жителей, а также искателей приключений. Мы сели в один такой самолёт и решили, что где-нибудь вылезем. Но полетим так далеко, как это возможно! Везде сидели участники одной экспедиции, а мы были две такие весёлые девушки. И тогда нас спросили – а где вы выйдете? Мы сказали – ну да, где-нибудь... – Как где-нибудь? – Да, ну, просто скажите нам, где нам нужно будет выйти.
И так мы летели, было красиво, самолёт где-то сел, вошли местные, и самолёт полетел дальше. И они нас опять спрашивают – а что вы хотите посмотреть? Мы говорим – мы хотим попасть в джунгли. И тогда один из пилотов сказал: – Так, вот тут есть миссионерская миссия, вылезайте. Место называлось Обидо. Маленькая деревушка. Мы вылезли и поднялись наверх к миссии. Мы не были одеты, как участницы экспедиции, у нас были такие лёгкие короткие летние платьица. А там впереди были сёстры, у которых платья были до пят, и они увидали нас, идущих к ним. Весь посёлок был полон индейскими детьми. И сёстры были в таком ужасе, когда мы появились. Нас заперли. И стали совещаться, что делать с этими девушками, которые явились сюда, как воплощение греха.
И вот к нам зашла одна немецкая монахиня и хлестнула маленьким прутиком нам по коленкам. Мы были сперва наказаны, а потом снова заперты. Я начала плакать. И маленькие индейцы смотрели на нас в окно и плакали вместе с нами. Они были такие милые! Но мы не могли выходить наружу. Нам надо было ждать, пока явится старшая сестра. Она была бразильянка. Замечательная женщина. Она тысячу раз извинилась и открыла нам дверь. За это время нам принесли длинные жуткие юбки, мы сидели в них, надетых на платья. И тогда у старшей сестры состоялся долгий разговор с сёстрами. Поздним вечером сёстры пришли и сказали, что хотят извиниться, т.к. они не знали, как себя с нами правильно вести. Но у них есть подарок для нас. И тогда одна вытащила маленькую бутылочку пива. Мы спросили – а где вы её достали? Они сказали – мы сбегали наверх к святым отцам. Там наверху был мужской монастырь. И они подумали, что грешным девушкам нужен алкоголь.
И вот мы спали в общей спальне с индейскими девочками, и это было трагично. Сёстры украли этих детей из их семей. Они говорили – они же язычники, и дети не должны вырасти, как язычники. Они их украли и отвели к себе, чтобы вырастить их как христианок. Эти дети по вине сестёр стали сиротами. Я больше не могла ночью спать. Я думала – куда я попала? Что это за мир? Там было так много маленьких мальчиков и девочек, которые скучали по дому. На следующий день мы убежали к монахам на верх горы. Монахи были открытыми и приняли нас. И сразу позвали нас поработать вместе – в джунгли вместе с местными. Так мы попали к племенам. А по вечерам нас опять посылали назад. И тут прилетел почтовый самолёт. Он прилетал раз в месяц и садился наверху, в горах. И вот пилоты привезли продовольствие и одного священника, чтобы окрестить местных жителей. И мы можем полететь обратно вместе с ними. Люди наверху не видали таких, как мы, они пробовали прикоснуться к нам, очень быстро, со спины, тайком пощупать волосы. Там наверху все ходили голыми, там был ещё каменный век. И вот со следующим почтовым самолётом мы отправились назад.
Слушая этот рассказ, можно задуматься о том, что в вашей коллекции большую роль играет именно женское искусство. Но скажите, как, по-вашему, сложилась ситуация, когда искусство, созданное женщинами, по-прежнему считается как бы подчинённым по отношению к мужскому? Как вы сами видите это?
Большая часть галеристов – мужчины. И я даже скажу, что речь не столько о женском искусстве как таковом, сколько о принципе женственного. Принципе, который хотелось бы исследовать; принципе, который допускает эмоции, идущие вглубь на территорию психики, куда следует просто проникнуть как можно дальше. Но есть и художники-мужчины, которые тоже так работают. Майк Келли (Mike Kelley), например. Он сам вообще-то был мачо, но в его искусстве женские элементы очень сильны. Такие художники создают искусство, у которого есть прямая связь с их личным опытом и переживаниями. Большая часть мужчин неспособна это допустить. Всё должно быть только на уровне головы. Когда я разговариваю с кураторами и говорю – «это что-то такое замечательное, и это трогает моё сердце», то они в ужасе и даже слушать не хотят. Всё должно оставаться на высоте, на уровне головы.
Это означает, что в мире искусства высший критерий для мужчин – интеллектуальность работы?
Это такой мужской принцип, который больше всего выражается именно в мужчинах. Хотя есть и женщины-художницы, которые работают также. Для многих, будь это художники, или галеристы, или кураторы – если они мужчины, нырнуть на территорию эмоций – это уже проблема. И это потому, что они не хотят соприкасаться с женским взглядом на вещи. Я раз говорила с одним французским галеристом – рассказала, какие работы художниц я только что приобрела, и он меня спросил – как вам пришла в голову идея приобретать женские работы? Я в своей галерее никогда бы не выставил ни одну художницу! Или Георг Базелиц, который в интервью одной газете сказал, что вообще нет никакого смысла говорить о женском искусстве, потому что женщины не способны его создавать! Мне эти его слова кажутся ужасными.
Ваша коллекция свидетельствует, что у вас другая точка зрения.
Да! И в то же время я никогда не ищу именно женщин. Я «вхожу» в художественную работу, совершенно не зная, создал её мужчина или женщина. Мне это совершенно безразлично.
У меня никогда не было идеи – я хочу коллекционировать женское искусство. Но я часто попадала во власть восхищения, глядя на женское искусство. Я даже не знала, что в моей коллекции половина работ принадлежит женщинам, а половина – мужчинам. Я выбираю то, что считаю достойным. Но в моей коллекции можно заметить, что я намного больше чего-то замечательного увидела в женском искусстве. Намного больше необычного и экспрессивного. У этого искусства более сильная связь со мной. Я это чувствую.
Когда появился Young British Art, вы были первой, кто обратил внимание на работы Сары Лукас (Sarah Lucas), хотя в то время большой шум был именно вокруг Дэмьена Хёрста и его коллег. И только через какое-то время и другие спохватились, что ведь Сара Лукас – мощная художница.
Мне она по-прежнему кажется великолепной. Да, просто я могу войти в женское искусство намного быстрее и почувствовать его. Но у меня нет никаких трудностей и с мужским искусством.
Вы не позволяете ничего внушить себе: работа или убеждает вас, или нет. Вам также принадлежит утверждение, что высокая цена искусства не означает автоматически такой же уровень качества.
Вовсе нет.
Как же появилась такая реальность, в которой плохое искусство стоит дорого?
Это – интересный феномен. Я только что была в Нью-Йорке на большом аукционе, где мне это ещё раз стало ясно. Есть люди, действительно очень страстные, интенсивные коллекционеры искусства, которые дискутируют с искусством, но есть и такие, кто говорит: «Это – дело престижа. Я ничего не понимаю в искусстве, но если галерист говорит мне – это хорошо, я это покупаю». И ещё есть такие, которые в какой-то момент поняли, что заниматься операциями с акциями проблематично, а вот в искусство можно хорошо вложить деньги.
И есть молодые художники, принимающие участие во всём этом. Есть один определённый круг, который рассматривает художников и решает – этот, этот и тот будут теперь дорогими. Они создают заурядное искусство, но нет ничего проще, чем им манипулировать. Три-четыре человека на аукционе поднимают цены на эти вещи вертикально вверх, и вот так всё это начинает функционировать. Тогда можно сказать своим клиентам: «Смотрите, сейчас искусство этого автора становится дорогим!» Потому что те люди, которые вот только что подключились и думают только в коммерческих категориях, сразу кидаются к художникам, которые стали более дорогими. Они даже не смотрят на работы, они вообще не понимают, хорошие они или плохие. Но они говорят: «О, полгода назад он стоил 15 000, а теперь уже 100 000! Совершенно определённо этот поднимется ещё до 150 000. Куплю теперь». И работа начинает жить своей самостоятельной жизнью, хотя художник попросту плох. У колебаний цен не всегда есть связь с качеством. Хотя, конечно, есть и противоположные случаи.

Павел Альтхамер. Matea. 2006/2008. С разрешения Sammlung Goetz
В настоящий момент искусство попало в тот же угол, в котором уже находятся недвижимое имущество, драгоценности, вина. Туда, где есть люди, у которых много лишних денег и которые хотят вложить их в ценности. И если вы спросите такого коллекционера... Один галерист мне рассказывал: он зашёл к одному коллекционеру и сказал: «О, а кому принадлежит эта работа?» Коллекционер знал только имя галериста, у которого он купил эту вещь, а как зовут самого художника – был без понятия. И вот так и развивается это направление: художник неважен, его имя неважно, и с этим искусством его владелец даже и не намеревается дискутировать. Кто-то просто однажды сказал – это стоит дорого. И этого достаточно. И если это дорого, то это хорошо.
Я совершенно убеждена, что однажды цены упадут. Многие из этих рекордно быстро взлетевших вверх художников также быстро скатятся вниз. Потому что с художественными произведениями обходятся, как с товаром.
Мне всегда жаль тех авторов, которые на рынке раскручены до самого верха, а потом через два-три года они, как старые бумажки, будут отброшены прочь. Можно себе представить будущую драму этих художников.
Почему вы коллекционируете искусство?
Я приобретаю его потому, что меня восхищают эти работы. Потому, что они – уникальные и действительно интересные. Для меня это – личностное обогащение. И станут эти работы теперь стоить дороже или не станут – мне это безразлично. Но мне важно, чтобы художник известное время поддерживал качество своих работ. Десять, пятнадцать лет его работы должны быть хорошими. Видеть развитие, замыслы художника, то, что для него важно, – это нельзя увидеть через пару лет, для этого нужно время. Если он через 15 лет снизит градус, станет уже не таким великолепным, это не так важно.
Есть так много чудесных художников, и их работы недороги. Я начала коллекционировать очень рано... У меня есть и вещи, которые со временем стали очень дорогими, но многие работы держатся на той же самой цене, и мне они всё равно кажутся хорошими.
Или вот, например, Джессика Стокхолдер (Jessica Stockholder), которую больше почти не выставляют, но я в ней так уверена, что покупаю всё, что только могу получить. У меня есть действительно большая коллекция её работ, и в моих глазах Джессика точно та же, что и раньше, она по-прежнему очень хороша. Однако никто другой её уже восемь, может, и десять лет не показывает. Может быть, она попала в руки не того галериста.
Когда вы в 1984 году смогли полностью отдаться коллекционированию искусства, мир ещё разделял железный занавес. Теперь его уже больше нет, мир изменился. Один берлинский галерист объяснил мне, что ему искусство Восточной Европы неинтересно, потому что он видит в его основе эпигонство. А как вы на это смотрите?
Этот человек просто ещё не видел никакого искусства. Я не знаю, на что он смотрел, может, на картинки в книжках, там, может быть, можно найти какое-то эпигонство.
В том, что мы для себя открыли в искусстве Восточной Европы, были совершенно независимые позиции, каких у нас вообще не было. Такие работы могли бы с тем же успехом быть созданы на Западе, однако не были созданы там. Сравнительно мало было тех, кто под давлением политических обстоятельств работал чисто политически. В основном художники нашли свой особый стиль, у которого не было связи с политическим подавлением.
Например, Павел Альтхамер. Это – большой художник. Упомянутый вами берлинец наверняка его не видел. Альтхамер фантастичен и так независим! Его работы могли бы возникнуть и в Германии или в Италии; нет – в Италии – нет, они лёгкие; но это могло бы быть и в Германии. Альтхамер работает очень по-европейски. Это не американское. У американцев всегда возникают трудности, если у искусства слишком много содержания.
На моей юбилейной выставке присутствуют Mária Bartuszová и Geta Brǎtescu – художницы, которые в 60-х годах создавали фантастические работы, но из-за железного занавеса их на этой стороне никто не видел. А теперь они открыты, только теперь! Выдающиеся работы. Чего-то подобного здесь не создал никто.
В моей коллекции много работ из Польши, из Румынии, из Чехии, Албании.
Вы сказали, что никогда не интересовались, создал ли эту работу мужчина или женщина. А глядя на какую-то работу, вы вообще обращаете внимание на национальность художника?
Нет! Вообще нет. Недавно я сидела за общим столом с людьми из одного американского музея, и это главным образом были члены еврейской общины. И они меня спросили: «Скажите, а в вашей коллекции есть также еврейские художники?» – «Бог мой», –ответила я, – «Это я ещё не выяснила!»

Энди Уорхол. Портрет Ингвилд Гётц. 1980. 102 x 101 см. С разрешения Sammlung Goetz
Перед тем как ехать к вам в Мюнхен, я хотела прочесть книгу, которую вы рекомендуете прочитать каждому – это «Красота маленьких вещей» японского философа Yanagi Soetsu. Зашла в берлинский книжный магазин, и оказалось, что она уже распродана, однако продавец, посмотрев в интернете, обнаружил, что доступны два подержанных экземпляра. Один стоил 960 евро, второй – 1500 евро. «Люди ставят на книги свою цену, а потом поднимают её. Капитализм в чистом виде», –прокомментировал продавец. А что важного в этой книге?
Это завышение цен я вообще отказываюсь понять. Книга обладает подчёркнутым японским подходом и взглядом на вещи. У предметов есть значение. Всё начинается с рассказа о чаше, которую изготавливают совершенно простые люди, делая только одно резкое движение. Если бы вы видели фотографию этой великолепной и замечательной чаши, вы, возможно, сказали бы – это что-то такое невзрачное и неинтересное. Но знатоки говорят, что в чаще можно почувствовать, как этим одним быстрым движением в неё была вложена вся человеческая душа. Вся жизнь. По фотографии я не могу это сказать и не знаю также, почувствую ли я это, если вещь окажется в моих руках. Книга – это рефлексия по поводу всех этих маленьких вещей, которым не придаётся особого значения, но которым свойственны невероятная важность и глубокое содержание. И если такая чашка разобьётся, то её пытаются починить с помощью золота. Её не выбрасывают. Это художественная работа, человек вложил в неё свою душу, и она не будет выброшена в мусор. Её будут чинить. Причём с помощью самого дорогого, что есть – золота.
Поэтому можно сказать, что художественная работа рождается там, где кто-то вложил себя полностью. От одного мазка кистью внутри должно быть всё. И тех, кто может вложить в вещь всю свою душу, в мире не так уж много.
Вы – практикующая буддистка. Но тогда, наверное, может хватать и природы, а искусство уже не нужно.
Тогда уж вообще ничего не нужно. Если бы вы видели мои десять заповедей, которые я выбрала себе из буддизма, вы бы поняли, что я живу в противоречиях. Моя жизнь – это один сплошной конфликт. Потому что с одной стороны есть то, что мне принадлежит. А с другой стороны – так чудесно видеть ту красоту, в которой тебе не принадлежит ничего. Когда я уезжаю на три месяца, это – совсем другая жизнь. Тогда мне ничего не нужно. Есть природа, и всё. И нет никакого различия. Я чувствую себя так хорошо, что спрашиваю себя – зачем тебе всё то, что тебе принадлежит? Вот в чём этот конфликт. Да.
Вы с мужем Стефаном Гётцем (Stephan Goetz) помогаете финансово улучшать условия жизни монахов в монастыре в Непале, а рядом с вами – сделанный Энди Уорхолом ваш портрет, напоминающий о гламурной стороне мира искусства, в котором вы тоже активно принимаете участие. Как эти разные миры соединяются в вашей жизни?
Да, как эти миры соединяются? Мою жизнь образуют крайности – авантюрные путешествия тоже не сочетаются с тишиной, медитацией, пребыванием в одном месте и его реальным восприятием. Три месяца я живу в отдалении от всего. Но я не нашла способа, как это комбинировать. В Мюнхене меня захватывает рабочая лихорадка, несмотря на то что я и здесь медитирую. Я всё ещё об этом думаю, как бы я смогла взять этот мир с собой сюда. Но в действительности это как два мира, и, находясь в одном, я радуюсь возможности уйти во второй. Но как их соединить? Мне уже много лет, но я всё ещё не нашла правильный способ.

Ингвилд Гётц. Фото: Томас Шмидт. Гамбург. © Goetz Collection
Если смотреть с той точки зрения, что можно обойтись полностью без всего, почему искусство всё-таки необходимо?
Потому, что оно снова побуждает думать. Если человек хочет принять в себя искусство, это не означает, что оно всегда должно нравиться, ему надо быть чрезвычайно открытым. Надо быть готовым принять вещи и их содержание, которое не всегда будет удобным. Но надо быть готовым смотреть и дискутировать. Искусство всё время учит быть толерантным. Природа такова, какова она есть. Но искусство бросает вызов.